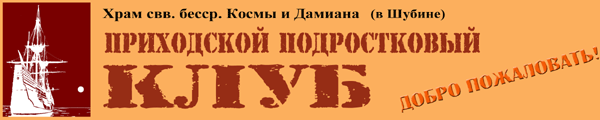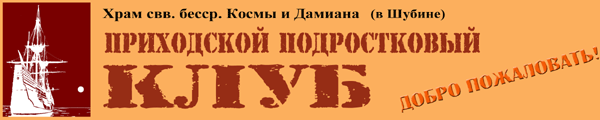|
ЗИМНИЙ
ЛАГЕРЬ 2004
ЯРОСЛАВЛЬ
Зимние
каникулы по-космодемьянски
День первый,
утро, вокзал. Нас провожают родители.
Оглядываешься вокруг: с кем едем на
этот раз. В основном - второе
космодемьянское поколение - или уже
третье, смотря как считать. Здесь Степа
и Кирилл - дети Сережи и Оли Булычевых.
Петя Старокадомский в представлении не
нуждается - он слишком очевидная копия
папы Сережи, который стоит тут же, щедро
желая нам всего-всего… Появление Пети
Дмитриевского, руководителя
подросткового клуба, сразу оживляет
ситуацию - посадка началась.
С чего
начинается лагерь? С дороги. Четыре
часа в комфортабельной электричке дают
время выспаться (вставали рано),
поговорить (часто ли есть время в
обычной жизни) и даже немножко поиграть.
Кто-то обсуждает модели плееров. А за
окном - морозный рассвет. Словно в
подарок, впервые за всю зиму нас
обступило коралловое царство
уснувшего леса. И поезд летит сквозь
тишину утра, через поля и долины, через
реки и деревни, среди сосен и берез.
В Ярославле -
снег. Нет, не снегопад, а просто снег - на
земле, на перроне, вокруг. Нам так не
хватало его в Москве, а тут - пожалуйста.
Ну что ж, приехали в правильное место.
От вокзала до
турбазы добирались весело и с
приключением. Водитель - простой добрый
человек - взялся довезти нас прямо до
места, свернув при этом с маршрута (вообразите
такое в Москве - чувствуете разницу!) и
даже немного поплутал, прежде чем нашел
тот незаметный переулок, в который надо
свернуть с окраинной улицы, чтобы найти
маленькую уютную турбазу, про которую и
соседи-то не все знают.
Расселившись
(что может быть лучше новеньких
двухъярусных кроватей), отправляемся
на обед, а затем - гулять. Тихо идет снег.
Совсем близко - Волга. На набережной
неуместно одиноко затерялись пляжные
кабинки, летом здесь совсем другая
жизнь. Зато ледянка - простое
изобретение из пластика, сразу
оказывается главным спортивным
снарядом.
До ужина
проходит наша первая встреча. Тема
лагеря - Рождество, но подойти к этой
теме мы должны сквозь века, начиная
хотя бы от Моисея. В этом секрет
мессианских ожиданий и ключ к
пониманию события. Перед нами проходит
череда персонажей: Моисей, судьи, Саул,
Давид, Соломон. Мы вспоминаем плен в
Египте, и снова плен, но уже в Вавилоне,
разделение царства и завоевание
римлянами. И, оставив мир на пороге
пришествия Спасителя, отправляемся на
ужин.
Кстати, забыл
сказать: до столовой, где нас вкусно и
аппетитно кормят (правда вкусно!) надо
идти с полкилометра по заснеженным
улицам ярославской окраины. Тихо
падает снег, светят фонари, изредка
проедет машина. Тишина нарушается
хрустом снега, и нашими возгласами -
кого-то периодически закапывают в
сугроб, при таких глубоких и рыхлых
сугробах удовольствие неизбежно. Когда
совсем стемнело и мы, накормленные и
умиротворенные, идем дамой мимо
разрушенной церкви, когда-то
перестроенной под склад, из-за домов
один за другим взлетают и рассыпаются
фонтаном брызг запоздалые фейерверки -
Новый год продолжается специально для
нас.
Второй день -
центральный в смысле экскурсий.
Проснувшись рано, мы едем в Углич. Этот
старинный русский город был основан в
937 году. Он древнее Ярославля,
возникшего лет через 70. А уж про Москву,
с помпой отметившую 850-летие, как-то и
говорить неудобно. Автобус летит по
пустынной зимней дороге, экскурсовод
рассказывает про историю обоих городов,
про первое в России производство
каучука и космический взлет карьеры
Терешковой, про автора "народных"
песен Ивана Сурикова и волжскую юность
Некрасова, про царевича Дмитрия,
история которого туманна, но для Углича
судьбоносна.
Знакомство с
городом началось с посещения церкви на
крови царевича. Низкие своды, чугунный
литой пол, богатая роспись: дни
творения сцены грехопадения и изгнания
из рая, а на западной стене - огромное
панно, соединившее сюжеты прогулок
царевича, его трагической смерти, бунта
и избиения - камнями до смерти -
годуновских чиновников, неизбежное
кровавое усмирение, дознание Шуйского,
которое, как и положено, констатировало
простое стечение обстоятельств. А еще в
церкви висит колокол с главной
городской колокольни. В те страшные дни
он призывал народ на бунт, за что был
снят, бит плетьми, лишен уха (отрубили
один из шести бронзовых подвесов) и
сослан (300 верст тащили волоком) в город
Тобольск. Теперь, в маленькой церкви -
музее его, по-прежнему чистый, звон
сулит туристам исполнение желаний.
Таково поверье, главное - загадать, пока
не замер последний звук.
А рядом -
княжеские палаты. Вернее их малая часть,
та, что была из кирпича и потому
сохранилась из глубины веков. В большом
сводчатом зале - изразцовая печь.
Расшитые жемчугом уборы (где он теперь -
речной жемчуг?) А внизу, в подклети,
выставка: тут и пищали (немногие
сохранившиеся от металлургических
аппетитов первых пятилеток), и другое
оружие защитников города. Сами
защитники были до последнего человека
истреблены польскими оккупантами,
потом, чтобы сохранить город, царским
указом переселили пять тысяч жителей
из других мест.
В отдельном
зале - старинные меры: осьмина,
полуосьмина и так далее. И гири: пуд, три
пуда….
Осмотрев
центр города и купив сувениры -
настоящие кованые колокольчики по
смешной цене, мыслимой только в
российской глубинке в несезон, мы едем
в необычное место. Это частный музей -
обычная изба на городской, а по сути
деревенской, улице. Впрочем не совсем
обычная, хозяин, Алексей Кулагин,
встречает нас у ворот в красном кафтане
и меховой шапке.
Во дворе -
ладья Афанасия Никитина с гордо
поднятым российским триколором.
Перекличка времен, встреча эпох
определяют дух музея. Здесь и макеты
затопленных храмов, и фигуры солдат в
обмундировании разных лет, и образцы
старинного оружия (что-то было найдено
прямо на этой улице - вот он, культурный
слой), и фототехника разных лет. Под
стеклом 4-зарядный капсюльный
револьвер Adams&Faiser 1835 года (Пушкин был
еще жив!). Такое оружие было у солдат и
офицеров 63-го Угличского егерского
полка. Рядом портреты братьев Тучковых.
Один отличился в битве у Чертова моста
в знаменитом суворовском походе,
другой - известный герой Бородинского
сражения. В отличие от регулярных,
егерские части были прообразом
современного спецназа, ходили в
разведку, если наступали, то скрытно, по
оврагам, кустам, внезапно оказывались в
тылу неприятеля. Когда началась русско-японская,
300 егерей добровольно отправились на
сопки Манчжурии. Родины не увидел никто.
В их память звучит знаменитый вальс.

Но я не
сказал о главном. Музей Кулагиных - это
не просто краеведческий музей, это
музей колоколов. Знакомство с
экспозицией было вплетено в настоящий
концерт, показанный самим Алексеем, его
женой Ириной, сыном Володей и совсем
еще юной Наташей. Прямо в избе
сооружена миниатюрная, но богатая
голосами звонница. И вся концертная,
пронизанная увлекательным рассказом
об истории Углича и России программа,
исполняется на ней. Под колокола тут и
поют и пляшут. Рассказывают, что царь
Петр, разоряя колокольни, пощадил самую
богатую, звонарь которой смог, отвечая
на царев вызов, сыграть камаринскую.
Углич -
маленький город в стороне от больших
дорог. Поэтому здесь можно если не
увидеть, то легко представить, какими
были провинциальные российские города
начала XX века. Высокие каменные дома -
только в центре, а так больше одно-
двухэтажные. Каждый дом сделан с
любовью, от резных наличников радуется
глаз, да и каменные дома удивляют
кирпичными кружевами. Сохранившиеся
церкви впечатляют красотой и
древностью. Совсем рядом на невысоком
волжском берегу храм Рождества Иоанна
Предтечи с массивным сводчатым
крыльцом, весь усыпанный изразцами, а
чуть дальше от реки - Воскресенский
монастырь, основанный митрополитом
Ионой еще в 1644 году. Монастырь узнаваем,
редкий плакат туристической фирмы не
воспроизводит его как символ волжских
круизов. Необычна архитектура: два
храма, трапезная, кельи и служебные
помещения выполнены в виде одного
корпуса, пронизанного открытой
галереей. Внутри же все очень бедно, сил
у братии едва хватает на поддержание
здания, впрочем, по словам экскурсовода,
городские власти проявляют понимание и
помогают. А несколько лет назад, до
передачи Церкви, храм был просто в
опасности - местные активно
растаскивали его на кирпич.
После
сытного обеда - столовая тут же, на
центральной площади - едем в женский
монастырь, к чудотворной иконе. Образ
Богоматери "Свеча неугасимая, огня
невещественного" уникален -
Богородица явилась на облаке, одетая
как простая монахиня. Лик сначала
кажется непривычно состарившимся, но,
приглядевшись, понимаешь - так старят
не года, так старит скорбь. Интересна
архитектура храма - его венчают три
огромных шатра. Так на Руси строили
очень недолго - всего один век, до
никонианских реформ, запретивших эту
форму, как непозволительно светскую. А
внутри - просторная сводчатая
трапезная и совсем маленькая,
собственно, церковь - может быть всего
на десять монахинь, и ведет в нее из
трапезной низкий "пещерный"
проход - двоим не разойтись.
Приветливая
монахиня за свечным ящиком
рассказывает о явлении Богородицы, о
чудотворных исцелениях, дарит нам
листочки с тропарем и мы, чуть
задержавшись, поем его на 4-й глас.
Списки с иконы, продающиеся здесь же,
разочаровывают облегченностью -
Богоматерь явно омоложена, черты
разглажены и высветлены. Заметив
сомнение, хозяйка понимающе кивает,
словно извиняется, и откуда-то из-под
прилавка достает простую, на крохотной
дощечке, но "настоящую", скорбную и
исполненную любви Марию. Лично для меня
это Дар.
А потом -
долгая дорога домой, в Ярославль. Гудит
мотор автобуса, метет снег за окном. Лес
спит.
В тот вечер
мы начали сочинять и репетировать
спектакль. Нашей темой был сюжет
Рождества и в сценарии, тоже
рождавшемся неформально, в диалоге
ведущих и ребят, переплелись прошлое и
настоящее, явление Ангела и Интернет,
чаяния народа Израиля и реалии России
начала XXI века…
День третий
начался с перехода. Мы форсировали
Волгу. Разумеется, по мосту. Дул ветер,
лепил мокрый снег, многие шли, держась
за левое ухо - направление ветра было
постоянным. Наша турбаза располагалась
в Тверицах - пригороде, больше
напоминающем поселок. А том берегу
расположился исторический центр
города, и, едва сойдя с моста, мы
оказались, перед изящным старинным
домом в самом начале улицы Терешковой.
Надо сказать, что Валентину Николаевну
в Ярославле ценят, не у каждого города
есть свой космонавт, к тому же женщина.
Сретенский
храм, ажурная вязь из красного кирпича,
вырос перед нами неожиданно. Ему явно
тесно на узкой улице: колокольни рвутся
ввысь, не вмещаясь в объектив и бросая
вызов малоэтажной застройке центра.
Внутри чинно и благолепно, справа
огромный стенд с правилами как надо и
чего нельзя. Строго.
Делая круг по
центру, выходим к храму Ильи Пророка.
Сквозь морозную дымку, сквозь кружева
ветвей этот величественный собор виден
издалека. Попасть внутрь нельзя, но и
снаружи он очаровывает как сказочный
замок. Площадь вокруг только
подчеркивает величие храма.
Навалявшись в пушистых сугробах,
делаем групповой снимок.
После обеда,
с грустью проводив Лену и Игоря (увы,
работа), мы собираемся в актовом зале,
чтобы погрузиться в историю Израиля,
понять чаяния богоизбранного народа
накануне рождения Спасителя. Диалог
продолжается в малых группах,
возникают неожиданные параллели между
чаяниями тех людей тогда и нашими
теперь. История становится ближе и
рельефней. Завершив евангельскую
беседу фрагментом из фильма Дзефирелли,
переходим к репетиции рождественского
спектакля. Текст, который ведущие "доводили"
минувший ночью тут же, страница за
страницей вылезает из старенького
Петиного принтера, актеры разбирают
роли, и начинается первый, очень
неформальный прогон.
Продолжают
вечер викторины, конкурсы. Самый
запоминающийся состоит в том, чтобы
взять грим и раскрасить соседа в
соответствии с его сущностью - так, как
ты ее понял. Победители получают призы.
День
заканчивается, как обычно, молитвой.
После вечернего правила - сначала "мягкий",
а затем вполне "жесткий" отбой.
Впрочем, жесткость чисто формальная:
обилие пройденных километров и
пережитых впечатлений делают свое дело.
Последний
день посвящен катанию с гор. Пол часа
хода по морозной дороге вдоль
соснового леса - и мы в местных "Карпатах".
Холмистая поляна, окруженная соснами -
районный ледодром для Ярославской
детворы. Здорово съезжать на ледянке,
но можно и так - если костюм и родители
позволяют. А если не позволяют, то все
равно очень хочется и удержаться
нельзя. Светит долгожданное зимнее
солнце. Верхушки сосен зеленеют сквозь
снежные уборы. Катание с гор - апофеоз
зимы.
Вернувшись
на турбазу, успеваем сделать последний
прогон спектакля (для меня до сих пор
загадка - как мы все это успеваем?) и
идем обедать. Уже с вещами. Спасибо
этому дому. После, сидя в скоростной
электричке, вспоминаешь события этих
дней со смешанным чувством
удовлетворения и нереальности. На
коленях - Петин ноутбук, в котором и
рождается этот текст. Приятно быть
человеком, который завидует сам себе.
Путешествия, знакомство с родным краем,
новыми людьми, общение, вечерние
разговоры - это не просто информация.
Есть конкретное чувство, что твоя жизнь
стала больше на этот опыт. Как будто бы
прибавилось тебя самого, и
возвращается в Москву уже не совсем тот
человек, что ехал недавно в Ярославль.
Это то, что хочется сберечь и сохранить.
И снова отправиться в путь.
Александр
Кремлев
в раздел
ЛАГЕРЯ
|